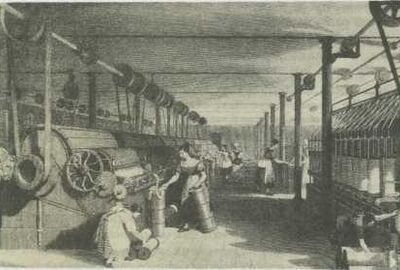Социализм и экономика

Социалистический эксперимент, в который было втянуто множество стран практически на всех континентах, кроме Австралии, к концу восьмидесятых годов прошлого века показал свою полную несостоятельность.
Неудача вроде бы делает обсуждение природы социализма неактуальной: наглядный урок был преподнесен и соответствующие выводы уже сделаны. Но, с другой стороны, социализм, наряду с фашизмом, показывает какой вред может нанести обществу вообще, и экономике в частности, идея тотального вмешательства государства в экономику. (В скобках заметим, что идеологические основы социализма и фашизма сильно отличаются. И при многих внешних совпадениях имеются коренные, сущностные различия между этими видами организации общественной жизни).
Сегодня нет-нет, да раздаются, в том числе у нас в стране, призывы к созданию общей объединяющей всех идеологии. Предполагается, что подобная идеология будет способствовать единству нации, позволит решить сложные задачи развития страны. На самом же деле, внедрение единой идеологии ведет в лучшем случае к застою, в худшем случае — к регрессу. В данной заметке мы проиллюстрируем этот тезис на примере социализма, в следующей — на примере фашизма.
На первый взгляд, идеология социализма очень привлекательна. В ее основе лежит идея всеобщего равенства, материального благополучия и равного доступа к культурным и духовным ценностям. Достигается это за счет ликвидации частного капитала и товарного характера производства.
Но что характерно, всякий раз попытки непосредственного догматичного внедрения идей Маркса-Энгельса вели к катастрофе. Так случилось в СССР в годы «военного коммунизма» и коллективизации, в Китае времен «Большого скачка», в Эфиопии — при Менгисту Хайле Мариаме, КНДР — при Ким Чен Ире, Кампучии — при Пол Поте и Йенг Сари.
В прошлой заметке обсуждалось видение Маркса распределения общественных благ в соответствии с затраченным количеством труда. Но эта идея содержит в себе сущностный изъян, который никак нельзя устранить: нет никакого иного способа измерить труд, кроме как через стоимость произведенного продукта. Но при социализме по Марксу-Энгельсу нет товарного производства, а значит и стоимости. Произвольная система распределения вознаграждения за труд ведет к дестимулированию работника, падению производительности труда, что в аграрных странах — а вышеперечисленные страны были аграрными — ведет к массовому голоду.
В СССР проблема была решена за счет частичного признания товарности производства. «… наше товарное производство представляет собой не обычное товарное производство, а товарное производство особого рода, товарное производство без капиталистов, которое имеет дело в основном с товарами объединенных социалистических производителей (государство, колхозы, кооперация), сфера действия которого ограничена предметами личного потребления, которое, очевидно, никак не может развиться в капиталистическое производство и которому суждено обслуживать совместно с его «денежным сектором» дело развития и укрепления социалистического производства»[1]. В практической плоскости это означало, что крестьянам было разрешено иметь личные подсобные хозяйства и реализовывать полученную на них продукцию по рыночным ценам на так называемых «колхозных рынках». Была отменена карточная система и распределение продуктов личного потребления шло через торговлю за деньги. Соответственно, работник получал вознаграждение за свой труд в денежной форме. Но размер денежного вознаграждения можно оценивать только через стоимость произведенного продукта. А стоимость определяется через общественную ценность продукта, которая устанавливается исключительно рынком. Признание же рыночных отношений равносильно отрицанию социализма. Возникло противоречие, которое в СССР, а затем и в остальных социалистических странах, было устранено довольно своеобразным способом: общественная ценность произведенной продукции вместо рынка определялась неким Органом. В действительности единого Органа не существовало, а был конгломерат различных группировок, действовавших в своих интересах. Их выгода заключалась не в получении личной денежной прибыли[2], а в укреплении своих позиций во властной, бюрократической системе. Ослабление позиций вело к выпадению из властной системы, а во времена Сталина и к расставанию с жизнью.
Не рыночный, а административный характер распределения произведенной продукции вел к возникновению диспропорций в экономике, неэффективных производств, сдерживанию инноваций.
Наличие диспропорций и неэффективных производств признал сам Сталин в уже процитированной работе. Что касается инноваций, то они в СССР существовали и даже внедрялись в экономику страны. Но они не имели массового характера. Дело в том, что инновация — это всегда риск, который кто-то должен на себя взять. В бюрократической системе такого рода риски перебрасываются как горячая картошка между различными организациями: выгод от успешного внедрения совсем немного, а неприятности от неудачи могут быть очень серьезными. Крупные инновационные проекты, вроде космической программы, разрабатывались и реализовывались по решению самых высоких инстанций, в первую очередь в интересах обороноспособности страны.
В рыночной экономике инновации внедряются, когда потенциальная прибыль превышает реальные риски. Да, убытки возможны, но возможная выгода очень заманчива. Для массовых инноваций необходим частный интерес, которому в социалистической экономике нет места.
Внедрение социалистических идей автоматически ведет к созданию принципиально неэффективной, обреченной на технологическое отставание экономики.
[1] Источник: И.В.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР (souz.info).
[2] Личная денежная выгода тоже играла свою роль. И коррупционные преступления в СССР имели место, но на первом плане все-таки стояло место в бюрократической системе.
Неудача вроде бы делает обсуждение природы социализма неактуальной: наглядный урок был преподнесен и соответствующие выводы уже сделаны. Но, с другой стороны, социализм, наряду с фашизмом, показывает какой вред может нанести обществу вообще, и экономике в частности, идея тотального вмешательства государства в экономику. (В скобках заметим, что идеологические основы социализма и фашизма сильно отличаются. И при многих внешних совпадениях имеются коренные, сущностные различия между этими видами организации общественной жизни).
Сегодня нет-нет, да раздаются, в том числе у нас в стране, призывы к созданию общей объединяющей всех идеологии. Предполагается, что подобная идеология будет способствовать единству нации, позволит решить сложные задачи развития страны. На самом же деле, внедрение единой идеологии ведет в лучшем случае к застою, в худшем случае — к регрессу. В данной заметке мы проиллюстрируем этот тезис на примере социализма, в следующей — на примере фашизма.
На первый взгляд, идеология социализма очень привлекательна. В ее основе лежит идея всеобщего равенства, материального благополучия и равного доступа к культурным и духовным ценностям. Достигается это за счет ликвидации частного капитала и товарного характера производства.
Но что характерно, всякий раз попытки непосредственного догматичного внедрения идей Маркса-Энгельса вели к катастрофе. Так случилось в СССР в годы «военного коммунизма» и коллективизации, в Китае времен «Большого скачка», в Эфиопии — при Менгисту Хайле Мариаме, КНДР — при Ким Чен Ире, Кампучии — при Пол Поте и Йенг Сари.
В прошлой заметке обсуждалось видение Маркса распределения общественных благ в соответствии с затраченным количеством труда. Но эта идея содержит в себе сущностный изъян, который никак нельзя устранить: нет никакого иного способа измерить труд, кроме как через стоимость произведенного продукта. Но при социализме по Марксу-Энгельсу нет товарного производства, а значит и стоимости. Произвольная система распределения вознаграждения за труд ведет к дестимулированию работника, падению производительности труда, что в аграрных странах — а вышеперечисленные страны были аграрными — ведет к массовому голоду.
В СССР проблема была решена за счет частичного признания товарности производства. «… наше товарное производство представляет собой не обычное товарное производство, а товарное производство особого рода, товарное производство без капиталистов, которое имеет дело в основном с товарами объединенных социалистических производителей (государство, колхозы, кооперация), сфера действия которого ограничена предметами личного потребления, которое, очевидно, никак не может развиться в капиталистическое производство и которому суждено обслуживать совместно с его «денежным сектором» дело развития и укрепления социалистического производства»[1]. В практической плоскости это означало, что крестьянам было разрешено иметь личные подсобные хозяйства и реализовывать полученную на них продукцию по рыночным ценам на так называемых «колхозных рынках». Была отменена карточная система и распределение продуктов личного потребления шло через торговлю за деньги. Соответственно, работник получал вознаграждение за свой труд в денежной форме. Но размер денежного вознаграждения можно оценивать только через стоимость произведенного продукта. А стоимость определяется через общественную ценность продукта, которая устанавливается исключительно рынком. Признание же рыночных отношений равносильно отрицанию социализма. Возникло противоречие, которое в СССР, а затем и в остальных социалистических странах, было устранено довольно своеобразным способом: общественная ценность произведенной продукции вместо рынка определялась неким Органом. В действительности единого Органа не существовало, а был конгломерат различных группировок, действовавших в своих интересах. Их выгода заключалась не в получении личной денежной прибыли[2], а в укреплении своих позиций во властной, бюрократической системе. Ослабление позиций вело к выпадению из властной системы, а во времена Сталина и к расставанию с жизнью.
Не рыночный, а административный характер распределения произведенной продукции вел к возникновению диспропорций в экономике, неэффективных производств, сдерживанию инноваций.
Наличие диспропорций и неэффективных производств признал сам Сталин в уже процитированной работе. Что касается инноваций, то они в СССР существовали и даже внедрялись в экономику страны. Но они не имели массового характера. Дело в том, что инновация — это всегда риск, который кто-то должен на себя взять. В бюрократической системе такого рода риски перебрасываются как горячая картошка между различными организациями: выгод от успешного внедрения совсем немного, а неприятности от неудачи могут быть очень серьезными. Крупные инновационные проекты, вроде космической программы, разрабатывались и реализовывались по решению самых высоких инстанций, в первую очередь в интересах обороноспособности страны.
В рыночной экономике инновации внедряются, когда потенциальная прибыль превышает реальные риски. Да, убытки возможны, но возможная выгода очень заманчива. Для массовых инноваций необходим частный интерес, которому в социалистической экономике нет места.
Внедрение социалистических идей автоматически ведет к созданию принципиально неэффективной, обреченной на технологическое отставание экономики.
[1] Источник: И.В.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР (souz.info).
[2] Личная денежная выгода тоже играла свою роль. И коррупционные преступления в СССР имели место, но на первом плане все-таки стояло место в бюрократической системе.
Самое популярное
АО «Центр транспортного сервиса», являясь одним из крупнейших владельцев подъездных путей, продолжает «стричь» грузоотправителей
The Pulse попытался выяснить, кто зарабатывает на этом.Подробнее
Как Казахстан тратил деньги Всемирного Банка
За 28 лет стране было предоставлено 8,686 млрд долларов на 49 проектных займаПодробнее
В «прицеле» регулирования – уличная торговля и еда
Объектом возможного дополнительного регулирования может стать малый и микробизнес, представленный в форматах уличной торговли продуктами питания и приготовленной едой, то есть донерные, базары, «магазины у дома».Подробнее
Мукомольный бизнес вступил в противостояние с правительством
Приказом министра торговли и интеграции РК муку первого сорта внесли в перечень биржевых товаров. Это не понравилось экспортерам.Подробнее
Карантинный 2020: экономические итоги
Что произошло с отраслями экономики страны и бюджетом за январь–декабрь прошлого года разбирался ThePulse.kz.Подробнее